 |
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ |  |
|
|
||
|
|
||
Одной из важнейших в культурологи является проблема дихотомии «культура – природа». Человек рассматривается как существо биологическое, природное, но одновременно живущее в обществе, следовательно, – подчиненное не только естественным, но и социальным закономерностям. Культура в такой модели видится посредующим звеном между индивидом и социумом. На это указывает, например, А. Я. Гуревич: «Культура… есть также неотъемлемая функция человека как социального существа, она выступает как бы средним членом между человеком и его социальной средой»[1]. То, что человек «есть общественное животное и по природе создан к сожитию с другими», мы знаем еще со времен «Никомаховой этики» Аристотеля. Но это определение никак не помогает прояснить вопрос о специфичности антропологического феномена. Действительно, на чем должен быть сделан акцент: на существительном «животное» (тогда мы ничем, по сути, не отличаемся от братьев меньших) или на прилагательном «общественное» (но в этом случае желательно было бы прояснить, в чем состоит уникальность человеческой социальности, ведь и животные организованы в определенные коллективы, имеющие свою иерархию)? Именно по причине укоренившегося представления о биосоциальном дуализме человека идет нескончаемый спор о том, противостоит ли культура природе, или же является ее закономерной модифицированной ипостасью.
Так Ольга Минченко в статье, посвященной множественности определений понятия «культура» (указывая на то, что по последним исследованиям их насчитывается более 500) склонна считать самым общим, не противоречащим ни одному из имеющихся, данное А.А. Радугиным: «Культура охватывает все, что отличает жизнь человеческого общества от жизни природы, все стороны человеческого бытия»[2]. Устойчивое противопоставление культуры и природы восходит к Вико и Монтескье. Встав на подобную точку зрения, мы могли бы сказать, перефразируя известную сентенцию мольеровского персонажа: все, что не культура – природа и все что не природа – культура. Впрочем, как и в случае оппозиции «проза – стихи» это мало что дает для понимания специфики каждого из противопоставляемых феноменов. Быть может, именно поэтому постоянно находятся те, кто пытается их отождествить.
Этологи во главе с К. Лоренцом стремятся обосновать теорию, выводящую культурную деятельность человека из инстинктивного поведения животных («свадебные» пляски, строительство жилищ, забота о потомстве, коллективный «быт» пчелиных и муравьиных колоний[3]). По мнению сторонников функционального подхода именно биологические (базовые) потребности в конечном итоге определяют духовные устремления человека. Б. Малиновский категорически заявляет: «Главный тезис состоит в том, что по своей сути символическое есть модификация изначально органического, позволяющая преобразовывать физиологическое побуждение организма в культурно значимые факты»[4]. Не случайно в интерпретации ученого природа человека определяется через «констатацию того факта, что все люди должны есть, спать, размножаться и выводить шлаки из организма вне зависимости от места проживания и принадлежности к тому или иному типу цивилизации»[5]. Отличие же человеческого коллектива от стада с точки зрения Малиновского состоит в том, что у животных отсутствует механизм фиксации и передачи (причем, межпоколенческой) индивидуально найденного – то есть традиция, реализуемая через язык и другие знаковые системы.
Казалось бы, имеем естественный переход, связанный с усложнением и увеличением коммуникационных возможностей, переход, позволяющий иммантезировать человеческую природу, сведя ее к чистой социальности. Причем, Малиновский даже прав, указывая на то, что «переход от докультурных достижений и способностей животных к стабильной и постоянной организации деятельности, которую мы называем культурой, отмечен разницей между привычкой и обычаем»[6]. Он только не обращает внимания на то обстоятельство, что обычай столь же фундаментально отличается от привычки, как, скажем, язык трагедии Шекспира от рулад канарейки или чириканья воробья[7]. Привычка – автоматична, она включает субъекта в навязываемую ему цепь событий. Обычай бытийственен, он не просто задает порядок свершений, но и предлагает индивиду их смысловое истолкование. Между инстинктивно запрограммированным действием животного и осмысленным поступком человека лежит пропасть, называемая свободой выбора. Последняя, конечно, вовсе не предполагает независимости субъекта от биологических и социальных детерминаций. Пока ты живешь в природе и обществе, невозможно игнорировать их законы. Свобода выбора выражает лишь рефлексию[8] по поводу действия этих законов, а значит возможность оценки, взгляда как бы со стороны из некой трансцендентной по отношению к естественному состоянию сферы, которую можно назвать как кому больше нравится, - смысловым пространством или областью духа. Следовательно, человек оказывается выделенным из природной среды, противопоставленным ей лишь в этом отношении. В оппозиции находятся не природа и культура, а плоть и дух. Религиозное представление о человеке как духовном существе представляется самым плодотворным и точным. Только необходимо до какой-то степени демифологизировать понятие духовности, ввести его в доступные для рационального понимания рамки. «Дух есть сущее как субъект воли и носитель блага», - указывает Владимир Соловьев[9]. Современный исследователь Лысков А.П. конкретизирует: «Духовность – это нравственно ориентированная воля и разум человека»[10].
Возражений нет, только трудно работать с определениями, скорее затемняющими, чем проясняющими определяемое. Быть может, честнее поступает Александр Мень, в разговоре о духовности избегающий точных формулировок: «Духовность - свойство природы самого человека, это то уникальное, исключительное, важнейшее, что отличает человека от других самых высокоразвитых живых существ, это то, что даже трудно определить словами. Дух невидим, непространствен, он нигде не находится. Но дух нам не внеположен, он не что-то чуждое нам, а это сама наша человеческая природа, и для того, чтобы дать определение этому свойству, духовности и духовностности - человек несет в себе дух, - пришлось бы встать на некую иную точку, откуда-то смотреть, что для нас невозможно, ибо дух - это мы сами и есть. И дух выше, он по своей природе шире рациональных определений, он в них не втискивается. Дух - это и мышление, и сознание, и воля человеческая, это весь тот континуум, сложный и в то же время единый целостный поток, который составляет особенность человека <…>
Второй аспект связан с формами реализации нашей духовной природы. С ее отношением к Вечности, своему призванию, любви и творчеству, миру, к другим людям. Может существовать темная, я бы сказал - демоническая, форма реализации. Как талант, как наука, как любые другие возможности, наша духовность может быть направлена и на добро, и на зло. Каннибальские культы доколумбовой Америки или нацизм - это тоже, увы, есть проявления духовности. Следовательно, этот уникальный дар, как теперь любят выражаться, амбивалентен. Потому что само богоподобие человека, то есть, по сути дела, его духовность, неотделимо от свободы»[11].
Действительно, духовность неотделима от свободы, и даже точнее: от свободы выбора, которая, как уже говорилось выше, связанна с рефлексией. Не претендуя на всеохватное раскрытие анализируемого понятия, решусь ограничиться его рассмотрением лишь в этом отношении. Рефлексия и свобода выбора с неизбежностью предполагают оценку совершаемого или совершенного действия, оценку, вытекающую из представлений о ценности или смысловой предпочтительности, причем, не ситуативно-субъективной, а системной, всеобщей. Животное, естественно, тоже производит оценку ситуации. Но, как и в случае с «языком» зверей и птиц, в котором подаваемые и принимаемые сигналы неотторжимы от конкретных вызывающих их событий, «оценка» братьев наших меньших всегда прикреплена к самим этим событиям. Она вытекает из наложения на ситуативную природную данность программы инстинктивного стремления к самосохранению, продолжению рода, удовлетворению физиологических потребностей. Реакция имманентна вызвавшим ее обстоятельствам. Рефлексия отсутствует, потому что для того, чтобы она заработала, необходимо выйти за пределы непосредственно данного, как бы посмотреть со стороны на тот жизненный поток, в котором ты пребываешь. Человеческая оценка отличается тем, что она до какой-то степени трансцендентна как переживаемому событию, так и субъекту переживания. Человек представляет собой удивительный феномен, постоянно не совпадающий со своим наличным существованием. Из своего сейчас мы все время проваливаемся в воспоминания или воспаряем в ожидания будущего. В отличие от животных мы обречены на как бы расслаивающееся бытие (что, заметим попутно, и есть наше пресловутое родовое проклятие – библейский «первородный грех»; остальные твари - невинны). Это расслоение, этот дуализм каждого человеческого существа выражается в том, что помимо естественного мира оно пребывает еще и в смысловом. Вот это-то обстоятельство я и предлагаю называть духовностью.
Итак, духовность это способность и неустранимая потребность, присущая исключительно человеку, помимо физического пространства пребывать еще в одном, для него совершенно реальном, – в смысловом пространстве, топография которого и определяет систему ценностей индивида. Здесь неизбежно возникает вопрос о статусе этого «второго» пространства, его объективности. Что тут ответить? Во всяком случае, понятно, что обязанное своим возникновением трансцендированию, оно не может быть объективировано таким же образом, как любой элемент имманентной природной данности. Реальность смыслового поля нельзя подтвердить никакой процедурой обобщающей проверки, поскольку трансцендирование осуществляет только субъект[12]. На коллективном уровне мы застаем лишь внешние последствия индивидуального обращения к «сверхестественному» (или «неестественному») смысловому пространству. Именно они-то, эти внешние, введенные в обобщающую социальную среду последствия и формируют культуру.
Поэтому можно сказать, что культура противостоит природе с точки зрения своего содержания, но по форме бытования культура, в некотором плане, натуралистична. Все дело в том, что, будучи обращенной к трансцендентному уровню духовного, свои смысловые доминанты она выражает во вполне имманентных вещах и институциях, короче говоря, в материале, который берется из все той же природной среды. Именно по этой причине открывается возможность различных исторически обусловленных несовпадений, когда социальная форма, будучи оторванной от духовно-смыслового содержания, конституирует себя в явлении, которое мы теперь называем массовой культурой. Понятно, что ей с неизбежностью должны противостоять различные виды элитарной художественной и научной деятельности, обращенные к поиску Истины, носящие, однако, в силу отсутствия общественного «носителя», сугубо маргинальный, катакомбный характер. Смысловая деятельность идет всегда, во все эпохи создаются великие произведения искусства и высказываются гениальные идеи, но бывают периоды (довольно частые), когда эти шедевры и идеи не могут укорениться, поскольку для общества они остаются как бы невидимыми. Социум не справляется с ролью проводника смыслов.
Вот и получается, что не культура есть посредующее звено между индивидом и социумом, а сам социум является лишь формой бытования человеческой культуры, с точки зрения содержания обращенной к иерархизированному духовно-смысловому пространству, в котором человек пребывает столь же реально и неотменимо, как и в пространстве физическом.
Тем самым, вместо дуальной модели природно-социального человека имеем модель «трехипостасную». Человек – это существо, включенное в систему действия трех типов факторов и идентифицирующее себя на трех уровнях: природном, социальном и духовно-смысловом. Подобный взгляд, в сущности, уже стал банальностью. Так А.П. Лысков пишет: «Единство биологических, социальных и духовных начал, тесно между собой связанных, не существующих друг без друга, представляет природу человека. Это единство устойчивых, глубинных свойств, определяющих основные черты жизнедеятельности человека, присуще как всему человеческому роду, так и отдельному индивиду»[13]. При этом, впрочем, чаще всего явно или тайно присутствует тенденция видеть в «высших» уровнях бытия человека сублимацию «низших», сводить духовно-смысловые ценностные доминанты к социальным через «историю», а то и к природным через «психологию». «Существуют такие глубинные уровни психологии человека, - пишет то же Лысков о сфере, которая им самим относится к области экзистенциальных переживаний, - которые являются продуктом всей истории человеческого рода и его культуры. Помимо элементарных норм любого человеческого общежития сюда можно отнести и такие, как вера, надежда, любовь, совесть, ответственность, стыд, вина, раскаяние и т. п.»[14].
При такой системе «выведения» и «сведения», в действительности, маскируется одно важнейшее обстоятельство: биологическое, социальное и духовно-смысловое начала в человеке не только находятся во взаимодействии и единстве, но и в оппозиции, они принципиально противопоставлены. Человек – есть странное совмещение несовместимого. Знаменитая формула «неслиянно и нераздельно» относится не только к Богу, но и к тому, кто создан по Его образу и подобию: в неслиянно-нераздельном состоянии пребывают в нас три природы, не расторжимые и не сводимые одна к другой.
Но это на микроуровне отдельного индивида. На макроуровне в каждую эпоху возникает совершенно конкретная суперпозиция трех начал, характеризующаяся отношениями тождества или нетождественности. Она-то и задает господствующий тип личности[15]. А если рассматривать человека прежде всего с точки зрения его духовной специфичности, можно говорить о том, что в исторической перспективе мы имеем дело со стадиально сменяющими друг друга типами духовности. И каждый из этих типов соответствует определенной конфигурации отношений, выстраивающихся между тремя ипостасями человеческой идентичности. Применив простые процедуры комбинаторики, можно выделить следующие варианты:
1) Случай полного тождества:
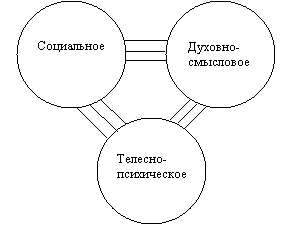
Такая ситуация, по-видимому, реализовывалась в самом начале человеческой истории в первобытности, когда не существовало разделения на сакральное и профанное, когда ритуал и жизненный процесс практически не были разведены, и индивид никак не противопоставлял себя ни природе, ни коллективу. Этот тип духовности можно, употребив оксюморон, называть телесной духовностью, поскольку здесь естественное еще никак неотличимо от искусственно-природного, зверь-тотем является двойником человека, Богом и жертвой. Рефлексия практически никак не обнаруживает себя.
2) Двойное неполное тождество первого рода, когда человек осознает общество, в котором он живет, в качестве чего-то специфического, чего-то такого, что противостоит природе. При этом социальный и духовно-смысловой уровень не дифференцированы, индивид целиком отождествляет свои ценности с общими, видит в традиционных формах существования единственно возможный образ жизни. Подобный тип духовности, можно было бы назвать автоматической духовностью (или социальной духовностью), он реализуется в обществах древности и средневековья, характеризующихся традиционным, соборным сознанием[16].
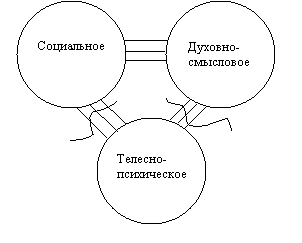
Нетрудно заметить, что случай «автоматической духовности» вариативен. Например, для древних восточных обществ, не говоря уже об Античности на стадии ее становления и зрелости была характерна следующая схема (одинарное неполное тождество первого рода):
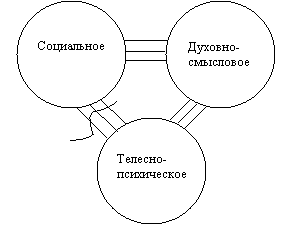
Тут при разрыве связи социального с биологическим, не возникало оппозиции телесного и духовно-смыслового, зато резко противопоставлялось эллинское (живущее по законам) общество варварскому миру, столь же стихийному, как природа. В Средневековье же, по-видимому, реализовывался случай одинарного неполного тождества второго рода с характерной для христианства оппозицией духовной природы человека его же телесности:
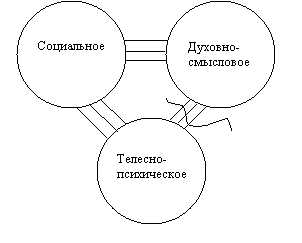
3) Если духовно-смысловой уровень существования человека эмансипируется, то можно, по-видимому, говорить о следующем типе - автономной духовности, при которой главным является обособление индивида от общества в той или иной форме. Развивается представление об особости отдельного человека, о его личности. Этот процесс, начало которого Карл Ясперс связывал с Осевым временем, в массовом масштабе делается характерным для поздней Античности или Нового времени.
Здесь, по-видимому, так же есть свои нюансы. Так для поздней Античности, вероятно, характерна схема (двойное неполное тождество второго рода), когда духовно-смысловой уровень при отпадении от социального, остается слитым с природным[17]:
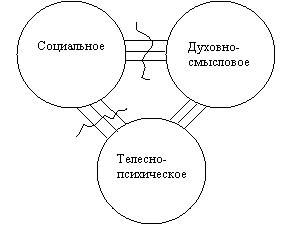
Эпоха Возрождения дает свой вариант одинарного неполного тождества третьего рода. Он характеризуется тем, что и социальность и духовность здесь видятся производными от природного начала и не противопоставляются ему. В то же время личность в своем индивидуалистическом витальном порыве постоянно выходит за рамки общественно предписанного, ищет свои ценностные ориентиры и поводы для самоутверждения. Схема соответствующая подобному типу общества, по видимому, должна выглядеть так:
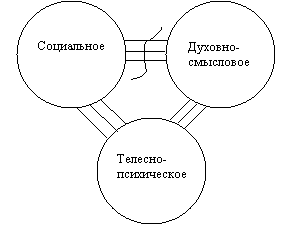
Для Нового времени в какой-то момент на первый план выходит вариант полного нетождества (думаю, что эта модель делается преобладающей в особо кризисные моменты существования той или иной цивилизации, например, в барочной культуре XVII века[18] или декадентстве конца XIX[19] и является нестабильной, поскольку характеризует предельное расщепление сознания индивида):
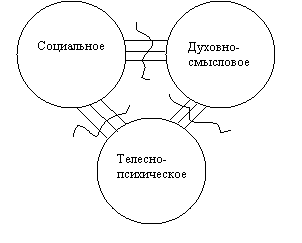
В целом же Новое время (особенно в позитивистский период) тяготеет к другому варианту неполного тождества (двойное неполное тождество третьего рода). Я мог бы даже назвать этот тип типом автономной духовности при оприроженной социальности:
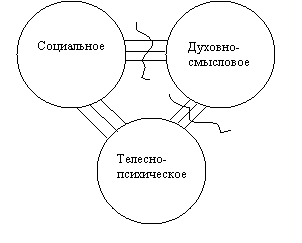
В такой ситуации человек, действительно, начинает рассматривать себя в качестве единственно достоверно существующего носителя индивидуальных смыслов бытия.
Наш тип цивилизации, который характеризуется автономным типом духовности возникает с началом Нового времени, хотя базовые принципы закладываются еще в эпоху Возрождения. Именно тогда возникают первые учения, рассматривающие историю, политику, экономику как системы, подчиняющиеся своим специфическим законам, не имеющим ничего общего с человеческой моралью или заповедями Святого писания (отправную точку здесь задает политическая теория Макиавелли). На практике это означает, что данные сектора человеческой жизнедеятельности оказываются по отношению к духовно-смысловому уровню бытия примерно в той же позиции, что и естественно-природное существование, подчиняющееся своим биологическим и физическим законам. Т.е. социальная жизнь совершенно отчетливо начинает приобретать черты природного феномена. И действительно, на протяжении XVII-XX веков мы сталкиваемся с появлением огромного количества философских и культурологических систем, фактически «оприроживающих» исторический процесс, культуру, самого человека (достаточно вспомнить «доброго дикаря» Жан-Жака Руссо). На теории естественного права строится юридическая и политическая жизнь нынешнего общества (мыслящегося как продукт общественного договора, т.е. чего-то вполне земного, посюстороннего, следовательно, в некоторой степени «природного»[20]), социал-дарвинизм торжествует в учениях о классовом противостоянии и национальной исключительности, когда чисто биологические законы борьбы за выживание переносятся на человеческий коллектив. Тем самым социальная и телесная ипостаси существования человека отождествляются, духовная же оказывается от них оторванной. Позитивистская философия (разновидностью которой может быть назван и марксизм) с ее ориентацией на «положительный факт», с ее отказом всерьез обсуждать вопрос об Истине, склонна отводить культурно-духовным феноменам роль чего-то второстепенного, ненадежного-субъективного, «виртуального». Культура, религия в позитивистски ориентированных теориях XIX-XX веков психологизируются, натурализуются, как, например, во фрейдизме. Можно сказать, что цивилизация Нового времени постоянно пытается ввести двухипостасную биолого-социальную модель человека и работать именно с ней. Это и означает, что духовно-смысловой уровень делается теперь автономным, как бы оставленным на попечение каждого отдельного человека, он, так сказать остается на его совести.
И не случайно. Потому что параллельно процессу натурализации общества идет процесс индивидуации личности. Вышеописанная конфигурация трехипостасной структуры, когда духовно-смысловые основания эмансипируются, с неизбежностью приводит к тому типу сознания, которое применительно к Новому времени мы с полным правом называем индивидуалистическим. Суть его в том, что приоритеты личностных ценностей стоят выше общественных, причем сами эти ценностные доминанты носят субъективный характер, поскольку им нельзя найти подтверждения на уровне общем, социальном (ведь социальная и духовно-смысловая ипостаси теперь нетождественны). Общество в условиях автономной духовности оказывается неспособным обеспечить трансляцию подлинных ценностных установок, оно не может в рамках социальной практики предложить человеку целостной осмысленной картины мира. Потому что социальная успешность теперь не только не тождественна, но, скорее даже противостоит моральной правоте. Об этом трагическом несовпадении писал еще наш классик, Гаврила Романович Державин: «Подай, Фелица, наставленье, как пышно и правдиво жить?» В том-то и беда, что в теперешних условиях выходит либо пышно, либо правдиво. Чтобы их вновь соединить нужно сменить метрику цивилизационной матрицы, сменить тип духовности.
[1] Гуревич А. Я. Культура Средневековья и историк конца XX века // История мировой культуры. Наследие Запада. М., 1998. С. 226.
[2]http://www.countries.ru/library/theory/definitions.htm.
[3] Некоторые из увлекшихся такими сопоставлениями исследователей доходят до замечательных культурологических неологизмов. Так Александр Зиновьев вместо термина «цивилизация» предпочитает употреблять изобретенное им словечко «человейник».
[4] Малиновский Б. Научная теория культуры. М. 2005. С. 112.
[5] Малиновский Б. Там же. С. 69.
[6] Там же. С. 114.
[7] По этому поводу Б.Ф. Поршнев писал: «… человеческие языковые знаки в своей основе определяются как антагонисты тем, какие воспринимаются или подаются любым животным. <…> Только человеческие языковые знаки благодаря отсутствию сходства и сопричастности с обозначаемым предметом обладают свойством вступать в отношения связи и оппозиции между собой, в том числе в отношения сходства (т. е. фонетического и морфологического подобия) и причастности (синтаксис). Ничего подобного синтаксису нет в том, что ошибочно называют «языком» пчел, дельфинов или каких угодно животных.
В человеческом языке противоборство синонимии и антонимии (в расширенном смысле этих слов) приводит к универсальному явлению оппозиции: слова в предложениях, как и фонемы в словах, сочетаются посредством противопоставления» (Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). М., 1974. С…).
[8] На принципиальное значение рефлексии как определяющего свойства человека указывал еще Тейяр де Шарден: «Разумеется, животное знает. Но, безусловно, оно не знает о своем знании — иначе оно бы давным-давно умножило изобретательность и развило бы систему внутренних построений, которая не ускользнула бы от наших наблюдений. Следовательно, перед животным закрыта одна область реальности, в которой мы развиваемся, но куда оно не может вступить. Нас разделяет ров или порог, непреодолимый для него. Будучи рефлектирующими, мы не только отличаемся от животного, но мы иные по сравнению с ним. Мы не просто изменение степени, а изменение природы, как результат изменения состояния» (Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М, 1987. С. 137).
[9] Соловьев В.С. Соч.: В 2 т., М., 1988, Т. 2., С. 252).
[10] Лысков А.П. Человек. Путь к цивилизации. Философский аспект социальной и культурной антропологии. М., 1997. С. 40.
[11] Мень А. О духовности. http://www.krotov.info/library/m/menn/04/00032.html.
[12] Последнее обстоятельство, кстати, вовсе не означает
исключительно субъективной природы «второй» реальности. Кьеркегор справедливо говорил в этом случае об абсолютной субъективности, через которую человек только и связан с Богом
(можно употребить и другие термины – со сверхчувственным, с трансцендентным). В этом плане вера у Кьеркегора представляет собой сугубо антропологический феномен: «Вера - это
как раз такой парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит выше всеобщего… вера это парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного
стоит в абсолютном отношении к абсолюту. Подобная позиция не может быть опосредована, - поскольку всякое опосредование происходит лишь силой всеобщего…» (Кьеркегор С. Страх
и трепет. М., 1993. С.54-55). Смысловое пространство может быть вполне реальным, вот только проекция этой реальности на физическую осуществляется лишь через трансцендирующего
субъекта.
[13] Лысков А.П. Человек. Путь к цивилизации. Философский
аспект социальной и культурной антропологии. М., 1997. С. 40.
[14] Там же. С. 64
[15] Чтобы сразу исключить всякие споры о том, возможно ли применять понятие «личности» к человеку средневековья, не говоря уже о первобытности, сошлюсь на мнение А.Я. Гуревича: «Несомненно существуют веские основания для локализации современного индивидуализма в истории последних столетий. Но нет никаких оправданий для того, чтобы видеть в новоевропейской личности единственно возможную ипостась человеческой индивидуальности и полагать, будто в предшествовавшие эпохи и в других культурных формациях индивид представлял собой не более, чем стадное существо, без остатка растворенное в группе или сословии» (Гуревич А. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005, С. 21).
[16] Косвенно на подобное противопоставление духовно-социальной тождественности природе указывает странный «аморализм» богов архаических обществ. Идея Бога никак не связывается с этическими представлениями (норма поведения задается исключительно социально). Например, Боги гомеровского эпоса ведут себя совершенно стихийно, обманывают, мстят, расставляют ловушки людям. Это не случайно. Дело в том, что на первых порах Боги «остаются» в природе. Они ведь по «происхождению своему» так сказать звери или стихии, т.е. воспринимаются пантеистически. Оприроженные боги на этой ступени развития цивилизации противостоят человеческим моральным принципам, закрепленным в социальной практике.
[17] Это особенно заметно, если приглядеться к ведущим философским школам поздней Античности – стоикам и эпикурейцам. Они не склонны противопоставлять телесное и духовное начало в человеке. Резкое размежевание этих ипостасей человеческого существа начинается с христианства. Вот чем античный индивидуализм отличается от индивидуализма современного человека. Он еще как бы подрастворен в «естественном», в силу этого любой человек воспринимается все же отчасти «человеком вообще».
[18] Среди интеллектуальной элиты.
[19] Уже в массовом порядке.
[20] В отличие от социальных теорий Средневековья, видевших в государстве отражения воли трансцендентных сил, следовательно, связывающих напрямую политическую практику с представлениями о морали и справедливости.









|
Партнеры: |
| Журнал "Звезда" | Образовательный проект - "Нефиктивное образование" |